Реферат: Своеобразие лирики Ф. Тютчева. Своеобразие творчества Ф. И. Тютчева Художественные особенности лирики тютчева кратко
Жанровая поэтика Тютчева также подчиняется закону «двойного бытия», в ней столь же интенсивно протекает синтез полярностей, что и на уровне ее мифопоэтики. Ю.Н. Тынянов убедительно доказал, что лирика Тютчева представляет собой поздний продукт переразложения жанровой основы высокой ораторской поэзии XVIII в. (торжественная ода, дидактическая поэма) и ее переподчинения функциям романтического фрагмента: «Словно на огромные державинские формы наложено уменьшительное стекло, ода стала микроскопиче ской, сосредоточив свою силу на маленьком пространстве : "Ви дение " ("Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья..." )» "Сны" ("Как океан объемлет шар земной ..."), "Цицерон" и т. д. - все это микроскопические оды» . Нередко всего одна сложная метафора или одно развернутое сравнение - эти реликты одической поэтики - сами по себе способны у Тютчева образовать завершенный текст («23 ноября 1865 г.»; «Как ни тяжел последний час...», 1867; «Поэзия», 1850; «В разлуке есть высокое значенье...», 1851). Афористичность концовок, ориентация на композицию эпиграммы с ее парадоксальной заостренностью мысли создают ситуацию, в которой компоненты одического мышления гораздо эффективнее реализуют заложенную в них художественную семантику. От архаического стиля XVIII в. поэзия Тютчева унаследовала ораторские зачи ны («Не то, что мните вы, природа»; «Нет, мера есть долготер пенью» и т. п.), учительские интонации и вопросы-обращения («Но видите ль? Собравшися в дорогу»), «державинские» многосложные («благовонный», «широколиственно») и составные эпитеты («пасмурно-багровый»; «огненно-живой», «громоки пящий», «мглисто-лилейно», «удушливо-земной», «огнезвезд ный» и т. п.). Собственно, в русской поэзии 1820-1830-х годов Тютчев был далеко не первым, кто открыто ориентировался на затрудненные, архаические формы лексики и синтаксиса . Это с успехом делали поэты-любомудры, в частности СП. Шевырев. Считалось, что такой «шершавый» слог наиболее приспособлен для передачи отвлеченной философской мысли. Однако у Тютчева, также принадлежавшего в начале поэтического поприща к окружению любомудров, весь этот инструментарий риторической поэтики нередко заключен в форму чуть ли не записки, написанной «между прочим », с характерными «слу чайными », как бы второпях начатыми фразами: «Нет, моего к тебе пристрастья», «Итак, опять увиделся я с вами», «Так, в жизни есть мгновенья», «Да, вы сдержали ваше слово» и т. п. Подобное сращение оды с романтическим фрагментом придает совершенно новое качество «поэзии мысли ». В ней свободно начинает сочетаться жанровая память различных по своему происхождению стилевых пластов. Например, в стихотворении «Полдень» (конец 1820-х ) мы видим сложное сочетание идиллической (Пан, нимфы, сладкая дремота ), одической («пламенная и чистая» небесная «твердь ») и элегической («ле ниво тают облака ») образности. Создается ситуация диалога различных поэтических эпох, возникают напряженные ассо циативные переклички смыслов на сравнительно небольшом пространстве пейзажной зарисовки .
Вообще словоупотребление Тютчева с необычайной экспансией вторгается в семантику традиционных поэтических тропов и преобразует ее изнутри, заставляя слово вибрировать двойными оттенками смысла. Например, образ «сладкой дре моты » из стихотворения «Как сладко дремлет сад темно-зеле ный...» (1830-е ) -
Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой;
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой! <...> -
еще тесно слит с его традиционным смыслом в «школе по этической точности» Жуковского-Батюшкова : греза, мечта, сфера контакта лирического «я» с невыразимым в природе (ср. у Жуковского: «Как слит с прохладою растений фимиам! // Как сладко в тишине у брега струй плесканье! // Как тихо веянье зефира по водам...»). И в то же время, по мере развертывания лирического сюжета, эта метафора, не утрачивая поэтических ассоциаций с привычным контекстом, начинает выявлять свои связи с индивидуальным художественным миром Тютчева: по являются образы ночи-«завесы», «изнеможения», «хаоса», в котором «роится» странный, пугающий гул ночных звуков и голосов... Возникает динамическое напряжение между традиционным и новым семантическим контекстом одних и тех же слов-сигналов. Поверх традиционной, стертой семантики наслаивается семантика индивидуально-авторская.
Несомненными чертами жанрово-стилевого новаторства от мечена и любовная лирика Тютчева, особенно поздняя, посвя щенная «последней любви» поэта - Елене Денисьевой . Все исследователи сходятся во мнении, что эта лирика представ ляет собой несобранный цикл, отмеченный единством новых тематических и сюжетно-композиционных решений. « Е.А. Де нисьева , - отмечал биограф поэта Г. Чулков , - внесла в жизнь поэта необычайную глубину, страстность и беззаветность. И в стихах Тютчева вместе с этою любовью возникло что-то но вое, открылась новая глубина, какая-то исступленная стыд ливость чувства и какая-то новая, суеверная страсть, похожая на страдание и предчувствие смерти» . «Денисьевский цикл » Тютчева, куда вошли такие стихотворения, как «Последняя любовь», «О, как убийственно мы любим...» (1851), «Она сиде ла на полу...» (1858), «Весь день она лежала в забытьи...» (1864 ) и др., с одной стороны, наполнен узнаваемыми штампами романтической любовной фразеологии («лазурь... безоблачной души», «воздушный шелк кудрей», «убитая радость», «пасть готов был на колени», «скудеет в жилах кровь», «любишь ис кренно и пламенно», «святилище души твоей» и т. п .), причем чуть ли в вычурном вкусе Бенедиктова или даже жестокого романса, а с другой стороны, самим мелодраматизмом положений предвосхищает «погибельную», на грани жизни и смерти, любовную драму романов Достоевского. Еще Г.А. Гуков ский , доказывая сходство « денисьевских» текстов с поэтикой прозаического романа второй половины XIX в., отмечал уме ние Тютчева « рисовать в коротком лирическом стихотворении сцену, в которой оба участника даны и зрительно, и с «репли ками», и в сложном душевном конфликте» . Отмечалась подробная (насколько, разумеется, это возможно в границах лирического рода) прорисовка «мизансцены» , предметного фона, роль психологического жеста («Она сидела на полу // И груду писем разбирала, // И как остывшую золу, // Брала их в руки и бросала»). К этим наблюдениям следует добавить намеренную затрудненность стиха, метрические перебои («По следняя любовь »), создающие будничную интонацию, а также установку на «днелогичность лирического повествования. Последняя, в частности, выражается в постоянных переходах от 3-го лица к 1-му, от 1-го лица ко 2-му в рамках одного и того же текста. Например, повествуя в стихотворении «Весь день она лежала в забытьи...» о своей возлюбленной в 3-м лице, лирический герой в финале дает реплику самой героини от ее лица: «О, как все это я любила!», а в последней строфе, словно откликаясь на слова умершей, неожиданно обращается к ней на «ты»: «Любила ты... » Отрешенно-созерцательный рассказ о прошедшем в итоге приобретает черты страстного диалога с героиней: событие как бы вырывается из плена смерти и пред стает совершающимся сейчас, на глазах читателя, во всей осле пительной силе и остроте переживаемой трагедии. Аналогичную смену планов и лиц повествования можно заметить и в других стихотворениях денисьевского цикла (« В часы, ко гда бывает...», 1858 ).
Итак, поэзия Тютчева представляет собой своеобразное про межуточное звено между поэзией пушкинской эпохи 1820- 1830-х годов и поэзией нового, «некрасовского» этапа в исто рии русской литературы. По сути, эта поэзия явилась уникальной художественной лабораторией, «переплавившей» в своем стиле поэтические формы не только романтической эпохи, но и эпохи «ломоносовско-державинской » и передавшей в концентрированном виде «итоги» развития русского стиха XVIII - первой трети XIX в. своим великим наследникам. Само «второе рождение» Тютчева, открытого Некрасовым в 1850 г. в списке «русских второстепенных поэтов», - факт почти мистический и, как все мистическое, глубоко законо мерный. Он был открыт тем поэтом, стиль которого, проза ичный и «шероховатый», во многом подготовил в собственном творчестве. Но, по сути, такова уж судьба Тютчева, что он «уми рал » и «рождался» в истории русской поэзии несколько раз. В следующий, уже после Некрасова, раз Тютчева откроет Вл. Соловьев в своей знаменитой критической статье 1895 г., причем откроет его уже как поэта-« мифотворца », увидевшего мир как живую « творимую легенду » и передавшего это ясно видческое знание своим потомкам. Так Тютчев на рубеже веков провозглашается уже родоначальником «символической школы» русской поэзии. И, кто знает, сколько еще « откры тий» Тютчева ожидают отечественную культуру, ибо кладезь этот поистине неисчерпаемый...
Итак, проследив немногие дореволюционные труды, в которых обсуждается проблема тютчевского миросозерцания, можно обощить: те из авторов, кто разделяет христианскую концепцию бытия, не приемлют для характеристики поэзии Тютчева понятие пантеизма. Чем же все-таки подтверждается тютчевский пантеизм в тех работах, которые не обходятся без этого весьма зыбко утвержденного понятия? Можно выделить три общих аргумента, которые будут буквально скопированы в советский период.
Во-первых, это близость поэта немецкой культуре, личное знакомство с Шеллингом и влияние ранних натурфилософских работ Шеллинга на поэта. Однако Тютчев достаточно самобытен как мыслитель, чтобы освоить немецкую философию и поэзию и, даже приняв некоторые ее темы, выработать свое собственное отношение к ним по принципу избирательного сродства19. Как это было у А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, которые, изучив немецкую метафизику, поставили своей задачей создание иной философии, укорененной в русской духовной традиции, – уже в начале 30-х годов10, в те же годы, когда Тютчев в Германии писал свои философские стихотворения. Не принимая внерелигиозной философии, будущие славянофилы вели спор с Шеллингом с тех же позиций, что и Тютчев, пытались разгадать загадку долгого молчания философа и торжествовали как величайшее событие, как знамение времени поворот Шеллинга к философии Откровения.Второй аргумент, подтверждавший пантеизм Тютчева: поэт восхищается природой и одухотворяет ее. Из этого исходит большинство советских исследователей. Недоразумение здесь очевидно. Христианские и пантеистические взгляды на природу расходятся, прежде всего, как уже было отмечено, в идее тварности мира. Отношение к миру как к дивному и чудному творению Божьему, для разума человеческого свидетельствующему о Премудрости Божией, а для сердца и души являющемуся источником красоты, – характерная черта христианского восприятия природы.
Пантеизм же, отождествление Бога и мира, или, по крайней мере, утверждение их имманентности, не приемлет идеи творения – это черта всех пантеистических систем, весьма разнородных. Пантеизм как отождествление божественного начала и мира был присущ древнегреческим философам, не знавшим личного Бога. Пантеизм новой эпохи – это учение о безличном мировом духе, скрытом в самой природе. В противоположность представлениям о сотворении мира Богом, пантеисты развивают концепцию вечного порождения природы безличным богом. Бог и природа сливаются в единую субстанцию, являющуюся причиной самой себя.
Пантеистическая лирика и. Ф. Тютчева
Тютчев – это подлинный поэт-философ, в произведениях которого преобладаетотточенная, афористичная мысль-идея .
В 1836 году, незадолго до смерти, А.С. Пушкин подготовил подборку стихотворений Тютчева для публикации в журнале «Современник». Он стал первым доброжелательным критиком молодого поэта. Пушкин подчеркивал: «Именно в философской лирике открывается новый поэтический язык и оттенки метафизики». Тютчев, ученик профессора Раича, переводчика и поэта, окончил Московский университет, прекрасно знал европейские языки. Около семнадцати лет он провёл в Германии, где служил дипломатом. Он общался с философом Шеллингом и поэтом Гейне, его принимали в лучших домах и музыкальных салонах. Это не могло не отразиться на его философской лирике. По утверждению Юрия Тынянова (статьи «Вопрос о Тютчеве» и «Архаисты и новаторы»), перед нами чистая поэзия мысли, в которой содержатся ответы на реальные философские вопросы эпохи: Вселенная, Земля, космос, хаос, тайна рождения, сна и смерти, время, пространство, судьба человека, любовь. По мировоззрению Тютчев был пантеистом (пантеизм – от греческих слов пан, то есть всё, теос, то есть бог; буквально – бог во всём). Тютчев верил в то, что бог «растворён» в природе и живёт в каждом камне, цветке, облаке, во всех природных стихиях. Это не конкретный бог – Христос, Аллах или Будда, – а как бы общая Душа Мира. Любимыми приёмами Тютчева уже в ранних произведениях стали олицетворение (одушевление неодушевлённого) и аллитерация (накопление повторяющихся согласных). В знаменитом стихотворении «Весенняя гроза» он писал:
Люблю гр озу в начале мая, Гр емят р аскаты молодые,
Когда весенний пер вый гр ом, Вот дождик бр ызнул, пыль летит,
Как бы р езвяся и игр ая, Повисли пер лы дождевые,
Гр охочет в небе голубом. И солнце нити золотит.
Религиозный философ и поэт-символист Владимир Соловьёв на исходе 19 века утверждал, что Тютчев видел Душу Мира в закате и блеске наступающей весны, слышал её в шуме ночного моря и ветра. Особенно нравилось Соловьёву таинственное стихотворение Тютчева «Тени сизые смесились…»:
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул –
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, дальний гул…
Мотылька полёт незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!..
Последняя строка – это поэтический девиз Тютчева. Его всегда интересовала тайна природы, которую он сравнивал со сфинксом, олицетворяющим в египетской мифологии вечную загадку. В стихотворении «Природа – сфинкс…» он писал:
Природа – сфинкс, и тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.
Искус – это вечное искушение. Природа искушает, манит человека своими тайнами, своей красотой. Человек не только не может разгадать эти тайны – он даже не уверен в том, есть ли они на самом деле.
Стремясь постичь тайну бытия, чаще всего Тютчев создавал величественные космические образы. Его волновали загадки ночи, хаоса, движения планет. В знаменитом стихотворении «Летний вечер» он так описывал закат:
Уж солнца раскалённый шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.
В другом стихотворении «Видение» мы видим череду мифологических образов:
Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.
Ночную мистерию (мистерия – это таинственный спектакль) описывает Тютчев в знаменитом стихотворении «Как океан объемлет шар земной…»
Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь – и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой.
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, –
И мы плывём, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
Любимые образы поэта – ночь, океан, светила. Это не только водный океан, но и океан звёзд. Сюжетная основа лирики Тютчева – это грандиозная мистерия, в которой участвуют все природные стихии, которые неизменно антиномичны: огонь – это блеск солнца, тепло, жизнь, но вместе с тем смерть, мировой пожар; вода – чистая, прозрачная субстанция, дождь, капли, но в другом случае это мировой потоп, разрушения, смерть; воздух – чистый, лёгкий, свежий, но вместе с тем это разрушительный ветер, буря; земля – живой, одухотворённый, мыслящий организм или треснувшая, сместившаяся кора. В этой вечной мистерии человеку отведена роль философа и странника. Вот почему его лирический герой нередко идёт, едет или летит. Порой Тютчев говорит от лица всего человечества.
Тютчева волновала проблема конца мира. Ей посвящено знаменитое стихотворение «Последний катаклизм»:
Когда пробьёт последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Всё зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них.
Такие четверостишия принято называть философскими фрагментами . Тютчев – мастерфилософского фрагмента . Некрасов отмечал: «Все эти стихотворения очень коротки, а между тем ни к одному из них решительно нечего прибавить».
Программным стало стихотворение поэта «Не то, что мните вы, природа…»:
Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
Для Тютчева все природные явления – это как бы знаки общей сущности, знаки бытия. Показать связь этих знаков в мистерии природы, в грандиозном спектакле, свидетелем которого становится человек, – в этом задача поэта.
Ю. Тынянов говорил о том, что Тютчев выработал особый изысканно-архаический язык; в его поэзии сильны одические традиции монументального стиля 18 века, ‑
явственно слышны державинские интонации. Он любит двойные эпитеты (животворный, миротворный, громокипящий, длань незримо-роковая что-то радостно-родное, в те дни, кроваво-роковые, пышноструйная волна, дымно-легко, мглисто-лилейно).
Написал не так уж и много произведений. Обладая писательским даром, он не считал литературное творчество своей профессией и писал непроизвольно. При этом многие его работы так и оставались на листе бумаги, и лишь по настоянию друзей, некоторые из них попадали в печать, и становились доступны широкой публике. Но даже эти немногочисленные творения становятся достойным наследием и своеобразной лептой, которую внес в литературу Ф.И. Тютчев.
Особенности лирики Тютчева
Чтобы понять особенности лирики Тютчева достаточно окунуться в мир его поэзии. Свои стихи Тютчев пишет только под влиянием некоего озарения, когда чувствует необходимость выразить свои мысли на бумаге. Вот и получается, что лирика Тютчева наполнена интимностью личных внутренних переживаний и больше похожа на дневник, где он запечатлевает свои мысли и размышления.
Ценность стихотворений поэта в том, что в этих небольших работах автор создает искренние и своеобразные образы. К тому же художественной особенностью поэзии Тютчева является и то, что они наполнены глубоким философским содержанием.
Особенности любовной лирики
Раскрывая тему художественной особенности поэзии Тютчева, стоит поговорить и об особенностях любовной лирики поэта. Представлена она немногими произведениями, которые посвящались разным женщинам. В жизни Тютчев был любвеобильным, страстным и увлеченным человеком. Так, его ранние стихотворения были посвящены первой любви, женщине, которую он повстречал в Мюнхене. Это была Амалия. Стихи же назывались или же Я встретил вас. Но судьба их разлучила, и уже через год он влюбляется в Элеонору Петерсон, которая стала его женой. Однако и здесь судьба была жестока к поэту. Смерть забирает его возлюбленную. Уже посмертно писатель посвятил Элеоноре Петерсон стихотворения В часы, когда бывает и Еще томлюсь тоской желаний. Следующей будет встреча с Эрнестиной Дернберг и женитьба. Эта женщина стала Музой для Тютчева, под влиянием которой появляется стихотворение Она сидела на полу.
Но самыми знаменитыми стихами поэта стали работы, что вошли в денисьевский цикл. Елена Денисьева стала последним увлечением писателя. Их связь была незаконной, и самым известным стихом того периода стала работа Последняя любовь.
Если первые стихотворения любовной лирики Тютчева изображают любовь, как страсть. В них поэт делится своими эмоциями и описывает эмоции возлюбленной. То в поздних работах поэта чувствуются мотивы скоротечности счастья, его вины перед возлюбленной. Теперь любовь ассоциируется с безнадежностью, а романтика гибнет под влиянием общества, которое отвергало все прекрасное своим непониманием. Любовь у писателя — это не только страсть, но и безнадежность, страдание и борьба. Особенностью лирики Тютчева было то, что он в своих работах отображал настоящие, не придуманные чувства.
Особенности изображения природы
Федор Тютчев по праву считается певцом природы. Как говорил , достоинством пейзажной лирики Тютчева было в том, что его природа была разной, живой и грациозной. Особенно нравилась писателю весенняя и осенняя природа. В эти периоды возрождения и увядания у автора появлялись неповторимые образы. При этом природа могла быть спокойной, как в стихотворении Осенний вечер, так и буйной, как в работе Весенняя гроза.
Тютчев любил очеловечивать природу, наделять ее человеческими характерами и чертами. И в этом особенность тютчевской природы. Писатель сопоставляет каждое природное явление с человеческим настроением.
Главные особенности лирики поэта - тождество явлений внешнего мира и состояний человеческой души, всеобщая одухотворенность природы. Это и определило не только философское содержание, но и художественные особенности поэзии Тютчева. Привлечение образов природы для сравнения с различными периодами жизни человека - один из главных художественных приемов в стихотворениях поэта. Излюбленный тютчевский прием - олицетворение ("тени смесились", "звук уснул"). Л. Я. Гинзбург писала: "Детали рисуемой поэтом картины природы - это не описательные подробности пейзажа, а философские символы единства и одушевленности природы"
Пейзажную лирику Тютчева точнее будет называть пейзажно-философской. Изображение природы и мысль о природе сплавлены в ней воедино. Природа, по Тютчеву, вела более "честную" жизнь до человека и без него, чем после того, как человек появится в ней.
Величие, великолепие открывает поэт в окружающем мире, мире природы. Она одухотворена, олицетворяет ту самую "живую жизнь, по которой тоскует человек": "Не то, что мните вы, природа, // Не слепок, не бездушный лик, // В ней есть душа, в ней есть свобода, // В ней есть любовь, в ней есть язык… " Природа в лирике Тютчева имеет два лика - хаотический и гармонический, и от человека зависит, способен ли он услышать, увидеть и понять этот мир. Стремясь к гармонии, душа человеческая обращается как к спасению, к природе как к божьему творению, ибо она вечна, естественна, полна одухотворенности.
Мир природы для Тютчева - живое существо, наделенное душой. Ночной ветер "понятным сердцу языком" твердит поэту о "непонятной муке"; поэту доступны "певучесть морских волн" и гармония "стихийных споров". Но где же благо? В гармонии природы или в лежащем под нею хаосе? Тютчев ответа не нашел. "Вещая душа" его вечно билась "на пороге как бы двойного бытия".
Поэт стремится к цельности, к единству между природным миром и человеческим "Я". "Все во мне, - и я во всем" - восклицает поэт. Тютчев, как и Гете, одним из первых поднял знамя борьбы за целостное ощущение мира. Рационализм свел природу к мертвому началу. Из природы ушла тайна, из мира ушло ощущение родства между человеком и стихийными силами. Тютчев страстно желал слиться с природой.
И когда поэту удается понять язык природы, ее душу, он достигает ощущения связи со всем миром: "Все во мне, - и я во всем".
Для поэта в изображении природы привлекательны и пышность южных красок, и волшебство горных массивов, и "грустные места" средней России. Но особенно пристрастен поэт к водной стихии. Чуть ли не в трети стихотворений речь идет о воде, море, океане, фонтане, дожде, грозе, тумане, радуге. Непокой, движение водных струй сродни природе души человеческой, живущей сильными страстями, обуреваемой высокими помыслами:
Как хорошо ты, о море ночное, -
Здесь лучезарно, там сизо-темно…
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно…
В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою -
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою…
("Как хорошо ты, о море ночное… ")
Любуясь морем, восхищаясь его великолепием, автор подчеркивает близость стихийной жизни моря и непостижимых глубин души человеческой. Сравнение "как во сне" передает преклонение человека перед величием природы, жизни, вечности.
Природа и человек живут по одним законам. С угасанием жизни природы угасает и жизнь человека. В стихотворении "Осенний вечер" изображается не только "вечер года", но и "кроткое", а потому "светлое" увядание человеческой жизни:
…и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья!
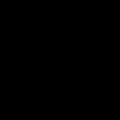 Яра, y-руна — циклы перемен
Яра, y-руна — циклы перемен К чему снится незнакомец: добродушный, равнодушный или агрессивный?
К чему снится незнакомец: добродушный, равнодушный или агрессивный? Сонник: к чему снится Пение
Сонник: к чему снится Пение